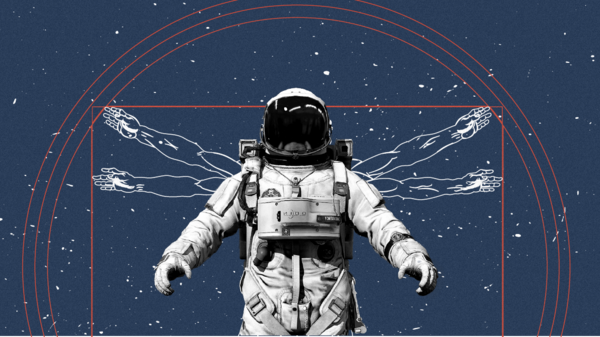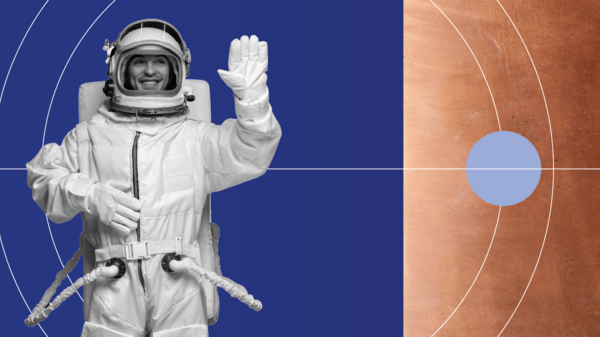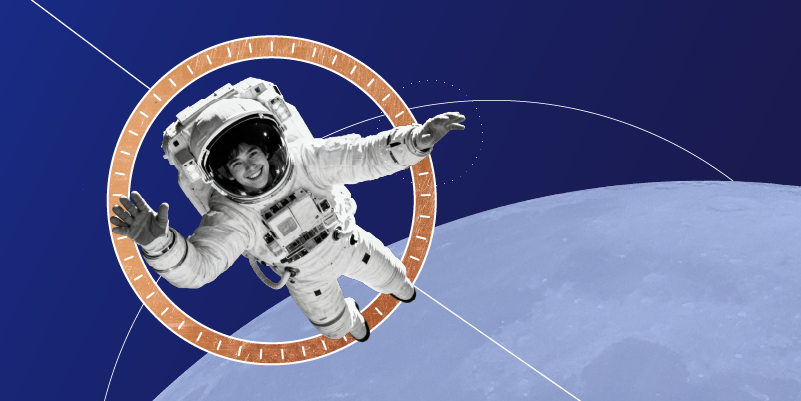
Человекоцентричность, согласно недавним исследованиям, развивается параллельно в двух изолированных друг от друга мирах: в мире практиков и мире академических исследователей.
В последние пять лет термин «человекоцентричная организация» стал одним из самых обсуждаемых в сфере корпоративного управления и организационного развития. Пандемия COVID-19 придала этой теме новый импульс: руководители компаний по всему миру были вынуждены пересмотреть приоритеты и поставить здоровье, безопасность и благополучие сотрудников в центр своих стратегий. Однако за громкими заявлениями о человекоцентричности часто скрывается фрагментарное понимание того, что именно означает этот концепт и как его реализовать на практике.
Параллельно с развитием корпоративных практик человекоцентричность примерно в тот же период стала частью глобальной социальной повестки. Международная организация труда (МОТ) активно продвигает человекоцентричный подход через Столетнюю декларацию о будущем сферы труда (ILO Centenary Declaration for the Future of Work, 2019).
Декларация МОТ ставит права и потребности людей в центр экономической, социальной и экологической политики. МОТ продвигает комплексное видение человекоцентричности, которое объединяет как фундаментальные права работников, их непрерывное обучение на протяжении всей жизни, так и всеобщую социальную защиту, достойные условия труда для всех, включая работников платформенной экономики, и справедливый переход к устойчивой экономике.
Два мира, два языка
Недавнее исследование Maya Townsend и A. Georges L. Romme, опубликованное в журнале Organization Development Review (2024), выявило интересную картину: человекоцентричность развивается параллельно в двух изолированных друг от друга мирах – в мире практиков и в мире академических исследователей.
Первый подход – человекоцентричный дизайн (Human-Centered Design, HCD) – появился в технологических компаниях и консалтинговых фирмах. Его суть проста и привлекательна: поместите потребности людей в центр процесса создания продуктов и услуг.
Этот подход предлагает конкретную методологию:
Человекоцентричный дизайн доказал свою эффективность в создании инновационных продуктов и услуг. Но у него есть ограничение: фокус преимущественно на внешних стейкхолдерах – клиентах, пользователях, потребителях. Сотрудники организации часто остаются за кадром.
Второй подход – гуманистический менеджмент – развивался в академической среде и имеет философские корни. Его представители (Ainamo, Bam & Ronnie, Winstanley & Woodall) задают более фундаментальные вопросы. Для чего существует организация? Как она должна относиться к людям, которые в ней работают?
Ключевые принципы гуманистического менеджмента:
Если человекоцентричный дизайн отвечает на вопрос «как» (какими методами создавать лучший опыт), то гуманистический менеджмент отвечает на вопросы «почему?» и «что должно измениться фундаментально?».
Критический взгляд: чего не хватает?
При всей привлекательности концепции человекоцентричной организации, исследователи Townsend и Romme выявляют серьёзные пробелы:
От риторики к реальности: пять элементов трансформации
Анализируя корпоративные практики и академические исследования, Townsend и Romme предложили интегрированную модель человекоцентричной организации, состоящую из пяти взаимосвязанных элементов.
В центре модели – базовые ценности, которые должны быть не просто задекларированы, а встроены в ткань организации:
Человекоцентричная организация существует не только для максимизации прибыли акционеров, но и для служения более широкой экосистеме стейкхолдеров: сотрудникам и их семьям, клиентам и пользователям, локальным сообществам, окружающей среде. Как отмечают исследователи, «благо всех людей достигается благом индивида, и наоборот». Организация и общество взаимозависимы.
Формирование корпоративной культуры, нацеленной на раскрытие человеческого потенциала, требует комплексного подхода. Её фундамент составляют осмысленность труда, при которой сотрудники чётко видят стратегическую ценность своего вклада в бизнес-результаты, и экосистема непрерывного развития, обеспечивающая постоянный профессиональный рост. А также важно помнить о системном признании достижений каждого члена команды и предоставлении управленческой автономии, то есть о доверии к способности сотрудников самостоятельно принимать решения в зоне их профессиональной ответственности.
Эта человекоцентричная модель опирается на принципы Теории Y Дугласа Макгрегора, исходящей из предпосылки о врождённой мотивации персонала, естественном стремлении к ответственности и способности к креативному решению рабочих задач.
Переход от жёсткой иерархии к модели полуавтономных команд предполагает наделение групп полномочиями по владению end-to-end-процессами и итоговыми результатами деятельности. Ключевыми характеристиками такой организации становятся внутренняя самоорганизация, практика коллегиального принятия решений и реализация принципа ротационного лидерства.
Данный подход не подразумевает полной ликвидации организационной структуры, но требует фундаментального пересмотра функций менеджмента, смещая фoкус с контролирующих функций на кураторские и координационные.
Здесь сходятся воедино методы человекоцентричного дизайна, такие как исследование потребностей людей, прототипирование и экспериментирование, инструменты диалога для работы с различиями и конфликтами, механизмы обратной связи и непрерывного улучшения.
От слов к делу: что это значит для практиков?
По данным Gallup (2024), глобально только 21% сотрудников активно вовлечены в работу, а 17% активно демотивированы. Это ставит под сомнение масштаб реальной трансформации в направлении человекоцентричности. Для руководителей и специалистов по организационному развитию из приведённого выше анализа и предлагаемой концепции следует несколько практических выводов.
Человекоцентричная организация – это не конечная точка, а путь непрерывной трансформации. Это стремление превратить организацию из «инструмента доминирования и репликатора классовых структур в место, где люди могут процветать» (Townsend & Romme, 2024).
Источники: